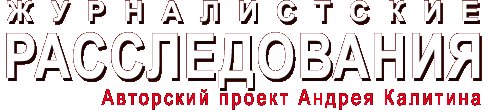2 декабря в Москве открылся съезд судей. В эксклюзивном интервью "Российской Газете" председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев раскрыл, какие предложения приготовила к съезду высшая судебная инстанция.
А разговор начался с самой острой темы: почему растет тюремное население и можно ли с этим что-то сделать?
Российская газета: Перед предстоящим съездом судей в обществе
вновь начались разговоры, что наши тюрьмы переполнены, а суды только
увеличивают контингент за решеткой. Можно ли сократить число арестантов
в стране?
Вячеслав Лебедев: Государственный подход должен заключаться
не в том, чтобы в местах лишения свободы отбывало наказание как можно
меньше осужденных, а в том, чтобы исключить случаи направления в
соответствующие учреждения таких лиц, чье исправление возможно достичь
иными, альтернативными видами наказания. Развитие этого направления
уголовно-правовой политики я считаю необходимым и перспективным.
Сегодня судья ограничен в выборе мер и видов наказания. Причины этого в
неэффективном правовом обеспечении.
В течение 11 лет, прошедших с момента введения Уголовного кодекса,
не решается вопрос с созданием соответствующих условий для назначения
судами таких видов наказания, как арест и ограничение свободы. Имеют
существенные ограничения такие виды наказания, как исправительные
работы, отбывание которых назначается только по месту работы, и штраф в
связи с тем, что 56 процентов осужденных не работают и не учатся, а 66
процентов имеют неснятую и непогашенную судимость.
В отсутствие какой-либо разумной альтернативы суды изыскивают выход
в назначении 42 процентов осужденных условной меры наказания.
Карательный кодекс - по заявкам трудящихся
РГ: Значит, признаете: сегодня есть карательный уклон у правосудия?
Лебедев: Это извечный спор в нашей новейшей истории. В
середине 90-х суды подвергались практически ежедневной критике в
излишней мягкости и либеральности. Выносились на обсуждение самые
различные предложения о необходимости ограничения судейского
усмотрения, начиная с фиксированного в законе срока наказания за
конкретное преступление и заканчивая обязательной для суда позицией
государственного обвинителя. Как результат, в 1997 году вступил в силу
действительно жесткий по своей концепции Уголовный кодекс.
Но читателям будет интересно знать, что и в далеком 1995 году, и
сейчас процент лиц, осужденных к реальному лишению свободы, остается
стабильным - от 30 до 33 процентов.
РГ: Но следственные изоляторы в девяностые годы были переполнены. О какой либеральности речь?
Лебедев: Стоит сказать, что полномочие на заключение
подозреваемого или обвиняемого под стражу предоставлено суду с 2002
года, хотя и раньше суд осуществлял судебный контроль за этой мерой
пресечения. И когда дело в отношении арестованного направлялось в суд,
где ему выносился приговор по менее тяжкому преступлению или
назначалось мягкое, по мнению органов расследования, наказание, с самых
высоких трибун раздавалась критика в адрес суда за либерализм.
РГ: По данным экспертов через "тюремные университеты" прошла
почти четверть мужского населения России. Число арестантов в стране
превысило миллион. Разве это было правильно?
Лебедев: Согласен с вами, это неправильно. В 2003 году
Уголовный кодекс уже подвергался серьезной ревизии с целью смягчения
установленных видов ответственности.
Однако этих мер сегодня недостаточно. Необходимо декриминализировать
некоторые составы преступления небольшой тяжести, а их в действующем
Уголовном кодексе насчитывается более 180, увеличить сумму мелкого
хищения, за которое предусмотрена административная ответственность,
перевести часть составов преступления из категории тяжких в категорию
преступлений средней тяжести.
Метла вместо тюрьмы
РГ: И все-таки законы стали гуманнее, а суды - жестче?
Лебедев: Разговоры о так называемом карательном уклоне носят
больше эмоциональный характер, когда на примере конкретного дела,
опуская существенные подробности, делаются громкие выводы.
В настоящее время судья нуждается в широкой возможности судейского
усмотрения при назначении наказания, которое ограничено не только
отсутствием альтернативных видов наказания, но и установленными в
законе ограничениями в виде правил назначения наказания при рецидиве
преступлений. Кроме того, необходимо исключить нижний предел санкций
закона.
РГ: Как не сделать эмоциональных выводов, когда, допустим, человек получил срок за мешок картошки или двух гусей?
Лебедев: Не могу с вами не согласиться, но проблема состоит в
другом - в отсутствии единого системного подхода к вопросам
уголовно-правовой политики. В результате мы имеем различные критерии в
оценке потребности развития институтов права у законодателей, органов
дознания и следствия, гособвинения и суда.
РГ: Так сколько же суды направляют лиц в места не столь отдаленные?
Лебедев: В прошлом году осуждено к реальному лишению свободы примерно 300 тысяч человек. Это треть от числа всех осужденных.
РГ: А остальные две трети какой приговор получают?
Лебедев: Условное наказание, штраф, исправительные работы по
месту работы. Позитивной является практика назначения наказания в виде
обязательных работ, которые отбываются в свободное от работы и учебы
время в виде бесплатных общественно-полезных работ.
Доля осужденных к такому наказанию растет с каждым годом - и в прошедшем году их было 38 тысяч.
РГ: Некоторые эксперты считают, что нужна ревизия карающих
законов. О чем вы тоже упомянули. Какие нормы в Уголовном кодексе вы бы
смягчили?
Лебедев: Верховный суд давно ставит вопрос о декриминализации
некоторых составов преступлений небольшой тяжести. Суды сегодня
выполняют излишнюю и несвойственную правосудию работу. В среднем в
течение года судами прекращаются уголовные дела в отношении 250 тысяч
лиц за примирением потерпевшего с обвиняемым. Эти примирительные
процедуры должны быть в полной мере реализованы на досудебной стадии.
РГ: Предлагаете считать их проступками?
Лебедев: Многие преступления небольшой тяжести можно
перевести из разряда уголовных в административные. В частности, дела
частного обвинения. Для чего за оскорбление, пусть и в неприличной
форме нанесенное соседу, человек может получить судимость?
РГ: Иные оскорбления бывают очень тяжелыми. Возможно, сосед не отказался бы отправить обидчика даже в тюрьму.
Лебедев: Уголовное наказание не имеет цели отомстить
обидчику. Да, оскорбление может быть очень обидным и унизительным. Но
степень общественной опасности подобных правонарушений несоизмерима с
последствиями судимости и фактическим поражением человека в правах. У
гражданина могут возникнуть проблемы с карьерным ростом, с выездом за
рубеж, с получением кредита. Есть очень много ограничений для лиц с
судимостью. Нередко последствия судимости отражаются на следующих
поколениях.
РГ: Оставлять оскорбление безнаказанным тоже нехорошо.
Лебедев: Наказать можно и в рамках административного кодекса.
Это могут быть и штраф, и административный арест. Допустим, за клевету
можно арестовать на пятнадцать суток, и это будет достаточное
наказание, я считаю.
Также необходимо повысить сумму стоимости похищенного, которая дает
основание для привлечения к уголовной ответственности. Сегодня это
тысяча рублей. Это, кстати, одно из решений вашего вопроса с мешком
картофеля.
РГ: Должно быть больше?
Лебедев: Безусловно. Не секрет, что такие хищения достаточно
часто совершаются в силу тяжелых жизненных обстоятельств. Расправляться
за них методами уголовного принуждения неправильно. Во многих случаях
эффективные виды административной ответственности могут оказать куда
более воспитательное воздействие.
РГ: Правоохранители часто жалуются, что нельзя привлечь,
скажем, карманника, когда он украл пару сотен. А для жертвы это может
быть немалая сумма.
Лебедев: Эти упреки в прошлом. Сегодня законодательство не
освобождает карманников от наказания с учетом малой суммы похищенного.
Здесь есть профессиональные тонкости: при совершении лицом
квалифицированной кражи, то есть из квартиры, одежды, сумки, или
группой лиц стоимость похищенного не является решающей.
Арест возьмут деньгами
РГ: Зато у судей есть широкие возможности для гуманности при
аресте. Но люди в мантиях не всегда этим пользуются. Почему так много
граждан оказываются в сизо?
Лебедев: Если рассуждать понятиями "много", то наступит
обязательно "завтра", когда скажут "мало". Это мы уже проходили. Здесь
критерий один: обоснованно избрана мера пресечения или же нет.
Во-первых, в 2001 году, когда полномочие по избранию меры пресечения
в виде заключения под стражу относилось к компетенции прокуратуры, было
арестовано 366 тысяч лиц, в прошедшем году по решению суда заключено
под стражу 232 тысячи лиц - это в полтора раза меньше.
Во-вторых, суд не арестует подозреваемого или обвиняемого без соответствующего ходатайства дознавателя или следователя.
РГ: Но ведь судьи не обязаны удовлетворять каждое ходатайство прокуратуры.
Лебедев: Конечно, ответственность за решение об аресте лежит
на судье. В среднем суды удовлетворяют 90 процентов ходатайств, а в
отношении несовершеннолетних этот показатель не превышает и 80
процентов.
РГ: А меньше арестовать не было возможности? Ведь есть и другие меры пресечения.
Лебедев: Мы ориентируем суды, чтобы шире применялись меры
пресечения, альтернативные заключению под стражу, например такие, как
залог и домашний арест.
В прошлом году залог был применен в отношении 1200 лиц. Это,
конечно, немного, и Верховный суд обращает внимание судей на то, чтобы
эта мера пресечения применялась более широко. Об этом мы будем говорить
на съезде.
Я убежден, что судами шире должен применяться и домашний арест.
Особую актуальность указанная мера пресечения имеет в отношении
несовершеннолетних.
Суд с бюрократическим уклоном
РГ: Давно идут разговоры о необходимости создания
административных судов, которые бы разбирали споры гражданина с
государством. Но никаких особых сдвигов в этом направлении что-то не
видно. Как вы считаете, съезд поможет ускорить процесс?
Лебедев: Всероссийский съезд судей - важное событие не только
для судейского корпуса, но и в жизни страны. Готовясь к съезду, мы
подводим итоги работы, выявляем недостатки в судебной практике,
анализируем, что может сделать нашу работу более эффективной. На наш
взгляд, прежде всего необходимо решить вопрос о реализации
конституционных положений об административном судопроизводстве.
Положения Гражданско-процессуального кодекса не отвечают процедуре
рассмотрения дел в споре гражданина с органами власти. Ведь гражданин в
таких делах заведомо более слабая сторона. Верховный суд внес в
Государственную Думу проект Кодекса об административном
судопроизводстве, целью которого является повышение уровня правовой
защиты граждан в их спорах с представителями государственной власти и
местного самоуправления, укрепление режима законности в деятельности
властных органов. Этот законопроект при публичном обсуждении не
вызывает ни у кого отторжения. Однако перспектива его принятия
законодателем достаточно неопределенная.
Я убежден в том, что его принятие будет способствовать предупреждению коррупционных проявлений.
РГ: Недавно Ассоциация юристов России предложила ввести
административную ответственность за неявку свидетелей в суд без
уважительной причины. Вы поддерживаете идею?
Лебедев: До 2002 года такая норма была предусмотрена в
Кодексе об административных правонарушениях. Однако в процессе
реформирования законодательства она была утрачена.
Сегодня многие судьи просят вернуть административную ответственность
за проявленное неуважение к суду, выразившееся в неявке в судебное
заседание. Решение этого вопроса будет в первую очередь в интересах
самих граждан, поскольку в значительной степени отразится на сроках
рассмотрения дел.
РГ: Кстати, какие ожидать реформы, направленные на сокращение сроков рассмотрения дел?
Лебедев: Верховный суд проводит постоянный мониторинг дел,
находящихся в производстве судов, а также принимает меры
организационного характера, направленные на сокращение сроков
рассмотрения дел судами.
Ведется постоянная и планомерная работа по образованию судебных
районов, что позволяет регулировать служебную нагрузку среди судей.
Кроме того, Верховным судом разработан и внесен в Государственную
Думу проект федерального конституционного закона "О возмещении
государством вреда, причиненного нарушением права на судопроизводство в
разумные сроки и права на исполнение в разумные сроки вступивших в
законную силу судебных актов". Урегулирование этих вопросов на уровне
национальных внутригосударственных институтов не только позволит
существенно уменьшить количество обращений российских граждан в
Европейский суд по правам человека, но и сократит время рассмотрения
подобных обращений. Закон будет выполнять еще и профилактическую
функцию в части соблюдения судами сроков рассмотрения дел.
РГ: Сегодня носить мантию стало престижно и многих волнует
вопрос: как стать судьей? Вы предлагаете ввести специальную подготовку
для молодых судей. Это будет особый университет или какие-то полевые
занятия?
Лебедев: Мы на протяжении многих лет ставили вопрос о
введении института подготовки кандидатов на должности судей. Это
решение должно было быть принято несколько лет назад, но наш
законопроект не получил поддержки. В этом году Верховным судом в
Государственную Думу внесен проект федерального закона,
предусматривающий профессиональную подготовку судьи федерального суда,
впервые назначенного на должность. Его реализация позволит молодым
судьям изучить современные теоретические и практические проблемы
материального и процессуального права, выработает необходимые
практические навыки подготовки процессуальных документов и ведения
судебного процесса, позволит освоить нормы судейской этики.
РГ: Не закрывать процессы - этому тоже научат на курсах?
Лебедев: Совершенно верно. Понимаю остроту вашего вопроса, но
должен сказать, что в целом судебная практика находится в правовом
поле. Только 1 процент уголовных и 0,2 процента гражданских дел
рассматриваются судами в закрытых судебных заседаниях.
Сильное правосудие должно быть открытым и прозрачным.
Для решения этих вопросов Верховным судом еще в 2006 года внесен на
рассмотрение в Государственную Думу законопроект "Об обеспечении прав
граждан и организаций на информацию о судебной деятельности". Он
развивает и конкретизирует нормы Конституции и федерального
законодательства о расширении открытости и гласности судебной
деятельности, информационной доступности судебных актов и права граждан
на доступ к информации, принципах взаимодействия судов и СМИ и ряд
других. Надеемся на то, что он будет принят в самое ближайшее время.
Кроме того, налажено эффективное взаимодействие с журналистским
сообществом, во всех региональных судах действуют пресс-службы. СМИ
получают полную информацию из открытых источников. В Интернете суды
общей юрисдикции представлены 2,5 тысячи официальных сайтов.
В настоящее время завершаются необходимые формальности создания на
базе РИА Новости нового средства массовой информации "Агентство
правовой и судебной информации".
РГ: Сегодня активно развиваются информационные технологии.
Лебедев: На съезде будут продемонстрированы возможности
подсистем Государственной автоматизированной системы "Правосудие",
объединяющей более 66 тысяч компьютерных рабочих мест.
Верховные, краевые, областные и равные им суды обеспечены средствами
видеоконференц-связи для проведения кассационных и надзорных процессов
в удаленном режиме со следственными изоляторами. Следующим шагом в этом
направлении является обеспечение возможности участникам гражданского
судопроизводства принимать участие в режиме видеоконференц-связи в суде
второй инстанции сначала на уровне Верховного суда, затем в нижестоящих
судах.
РГ: А в перспективе смогут ли суды полностью перейти на электронное правосудие?
Лебедев: Сейчас в некоторых судах проходит эксперимент по
внедрению электронного документооборота. Но переход к так называемому
электронному правосудию - вопрос будущего. Необходимо создание правовой
базы.
Верховным судом внесен законопроект, предусматривающий допрос по
видеоконференц-связи иногородних свидетелей в уголовных и гражданских
процессах.
Рассматривается возможность введения видеопротоколирования судебных
заседаний по гражданским и уголовным делам, что будет способствовать
повышению объективности рассмотрения дел и качества судебных решений.
РГ: Третья власть де-юре независима. Но часто звучат сомнения. Может, независимость надо укрепить как-нибудь сильнее?
Лебедев: Независимость судей - это не привилегия, а высокая ответственность.
Нередко звучат вопросы: что делать с судом? Отвечаю - его надо
оберегать, не позволять вмешиваться в работу суда и взыскательно,
уважительно относиться к оценке его работы.
В течение прошедшего года судами рассмотрено 9 миллионов 365 тысяч
гражданских дел, 5 миллионов 254 тысячи административных дел, 2
миллиона различных материалов в порядке гражданского и уголовного
судопроизводства, 1 миллион 200 тысяч уголовных дел. При этом качество
и сроки рассмотрения остаются на высоком уровне.
Разве эта работа не вызывает признания и уважения? Независимость
судей - это одна из главных ценностей общества. Насколько суд будет
иметь реальные гарантии независимости, настолько он будет справедлив,
объективен и беспристрастен.