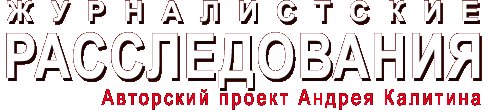Напомним основную интригу. Двум заместителям министра финансов России, одному действующему - Сергею Сторчаку, а другому бывшему - Вадиму Волкову было предъявлено обвинение в покушении на хищение 43,4 миллиона долларов США путем мошенничества организованной группой. То есть, по логике следствия, хищения не было, но оно могло бы быть… Вместе с высокопоставленными чиновниками по делу о сослагательном наклонении проходят: бывший гендиректор компании «Содэксим» Виктор Захаров и банкир Игорь Кругляков. Следствие полагает, что они создали организованную преступную группу с целью хищения денежных средств из федерального бюджета под предлогом покрытия затрат, понесенных компанией «Содэксим» в Алжире.
Дело расследуется без малого 3 года, и пока никаких видимых успехов СКП не добился - именно потому суд был вынужден отпустить Сергея Сторчака из-под стражи, поскольку все мыслимые сроки содержания в тюрьме прошли, а никакого суда в ближайшей перспективе не предвидится. Ну хотя бы потому, что формула обвинения менялась трижды. В последнем варианте, в частности, говорится: государство деньги получило, обязательно должно их возвратить, но вовсе не компании «Содэксим». То есть «Содэксим», по мнению следствия, - не надлежащий «проситель», или - не надлежащий истец, если воспользоваться языком гражданского судопроизводства.
Именно в этом и кроется интрига последнего скандала. Дело в том, что недавно компания «Содэксим» подала в Московский арбитражный суд иск к Министерству финансов России (при этом никто из фигурантов уголовного «дела Сторчака» в этом арбитражном процессе не участвует). И суд принял иск к производству, тем самым признав компанию «Содэксим» надлежащим истцом, то есть лицом, обладающим правом заявить свои требования к Минфину, что категорически расходится с логикой обвинения в рамках дела уголовного.
Возникла коллизия: представители Минфина в арбитражном процессе сделали ровным счетом то же самое, что сделал тремя годами ранее другой их представитель - господин Сторчак. А ведь и сумма исковых требований - та же, и основания - те же, и получатель - тот же. И кто теперь сможет объяснить, почему Сторчак - мошенник (по версии следствия), а нынешние представители Минфина - добросовестные участники арбитражного спора, то есть не уголовного, а гражданского процесса?
И подобное решение арбитражного суда - принять иск к рассмотрению - не было обжаловано представителями прокуратуры (а СКП, ведущий следствие, является ее структурным подразделением). В соответствии с действующими на сегодня законами признание судом «Содэксима» надлежащим истцом уже не требует никакой дополнительной проверки следственным путем и имеет преюдициальное значение. Итак, мы подошли к самому важному.
Для справки. ПРЕЮДИЦИАЛЬНОСТЬ - обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением или приговором по какому-либо другому делу. Факты, установленные в судебном решении в первом процессе, имеют преюдициальное значение и не подлежат оспариванию.
Так что в связи с этим решением арбитражного суда и последняя редакция обвинения по уголовному «делу Сторчака» должна быть признана несостоятельной, а само дело должно быть прекращено. Это важнейшее обстоятельство и волнует ныне обе стороны: и подозреваемых, и следователей. Но не только их. Оно должно волновать абсолютно всех, поскольку за ним кроется глобальный вопрос, связанный с реформой правосудия и укреплением законности в России. Вопрос такой: что важнее - карательные органы или суд; логика Уголовного кодекса в экономических спорах или логика кодекса Гражданского; следователь с ментом, кошмарящие бизнес, или судья?
Руководство Следственного комитета на эту коллизию отреагировало весьма нервно. 7 сентября в «Российской газете» было опубликовано интервью с председателем СКП А. Бастрыкиным в связи с трехлетней годовщиной учреждения этого самого мощного в стране следственного органа. Понятно, что интервью в главной государственной газете должно было быть юбилейно-парадным, однако центральное место в нем занимает не отчет об успехах ведомства, а позиция руководителя следствия по «делу Сторчака». Среди огромного количества громких и резонансных дел, находящихся в производстве СКП РФ, выделено только одно. Учитывая, что, скорее всего, публикацию готовила целая команда, мы имеем дело с согласованной позицией, с системой взглядов всего ведомства (СКП) на правосудие в стране. И взгляды эти пугают.
Российские силовики отказываются следовать президентской реформе, предполагающей, что хозяйственные, экономические споры будут рассматриваться все-таки в порядке арбитражного, то есть сугубо гражданского судопроизводства. И рассматриваться будут не следователями в камерах СИЗО, а высококлассными юристами в зале судебного заседания. Но в этой конфигурации и СКП, и ФСБ, и МВД теряют всяческое влияние на бизнес, право вмешиваться в споры хозяйствующих субъектов. Как же так, если возможность такого вмешательства - важнейшее «завоевание» силового блока, в том числе и во внутриполитической борьбе? На кону стоит на самом деле не исход «дела Сторчака», а вообще все.
И глава СКП, рассуждая в интервью о преюдиции, выражает озабоченность тем, что подача искового заявления в арбитражный суд (в рамках «дела Сторчака») создает опасный прецедент: лица, обвиняемые в совершении преступлений, могут избежать судебного разбирательства по существу уголовных дел.
Однако следует напомнить: измененная законодателем по инициативе президента статья 90 УПК РФ направлена именно на предотвращение вмешательства силовых структур (далеко не всегда законного, как показывает практика) в экономику. И по сути - начало арбитражного процесса по иску «Содэксима» к Минфину по тем же обстоятельствам, которые легли в основу уголовного «дела Сторчака», указывает следствию, что оно с самого начала, забрав в свое ведение чисто экономический конфликт, занималось не своим делом.
Пытаясь повлиять на грядущий гражданский процесс, руководство СКП было вынуждено направить в арбитражный суд документы по «делу Сторчака». Фактически - это материалы уголовного дела, якобы подтверждающие несостоятельность требований ЗАО «Содэксим». Перечень приложенных документов есть в редакции: в 102 томах, созданных за три года, нашлось всего 6 документов (из них 2 - постановления, не являющиеся доказательствами), которые, по мнению следствия, ставят под сомнение обоснованность требований ЗАО «Содэксим» в арбитражном процессе. Если это - все, что у следствия есть, то понятно, почему уголовное дело до сих пор не ушло в суд.
Казалось бы, в арбитражном процессе все ясно: «Содэксим» - истец, Минфин - ответчик, банк ВЭБ - третье лицо, и суд должен разрешить их спор по существу. Однако направление бумаг из уголовного дела свидетельствует о том, что в арбитражный процесс самостоятельно пытается влезть «четвертое лицо» (Арбитражно-процессуальный кодекс РФ таковых не предусматривает). И у этого лица заинтересованность в исходе дела больше, чем у всех законных участников процесса, вместе взятых.
Могло ли руководство СКП вообще направлять в суд какие-либо материалы уголовного дела? Да. Но для этого существует ряд процедур, предусмотренных законом. Видимо, в спешке ими пренебрегли. И документы в последующем из арбитражного дела были изъяты - похоже, в дело их «имплантировали» незаконно.
СКП жизненно необходимо отправить «дело Сторчака» в уголовный суд. Там, при вынесении оправдательного приговора, всегда можно свалить вину на прокуроров или судей, которые «не оценили» титанический труд следователей. И потому в интервью «Российской газете» звучат даже политические оценки: «представители Минфина действуют вопреки государственным интересам».
Следователи опасаются создания прецедента - правильного толкования важнейшей для России нормы права, какой является статья 90 УПК РФ. На самом деле сегодня и без того есть достаточно оснований для недоведения уголовного дела до судебного рассмотрения: прекращение уголовного преследования на стадии следствия по реабилитирующим и по нереабилитирующим основаниям. Но если прекращение уголовного преследования на стадии предварительного следствия, за отсутствием состава или события преступления, полностью во власти следователей, то прекращение дела на основании решений других судов, имеющих преюдициальное значение, выбивает из рук силовиков большую «экономическую дубинку». Представьте себе, что будет, если все бизнесмены под следствием (или осужденные) по экономическим статьям обратятся к компетенции арбитражного суда? Очень многие политически мотивированные либо рейдерские уголовные дела просто развалятся!
Несмотря на то что ст. 90 УПК РФ носит императивный характер и не дает никакого маневра для следовательского усмотрения или иной оценки, глава СКП сформулировал в интервью позицию силового сообщества так: «…любое решение арбитражного суда о возмещении причиненного ущерба ничего не изменит в квалификации действий Сторчака». Только нервами можно объяснить, что юрист такой высокой квалификации позволяет себе заявить: он еще не знает, какого содержания будет судебное решение, но следователи его все равно проигнорируют.
Так и получилось, что «дело Сторчака» - тест на действие в России принципа равенства перед законом государства и бизнесмена. Ведь если эти люди будут осуждены, то бизнесу будет дан недвусмысленный сигнал: «Обратишься к государству за своими деньгами - посадим». Вряд ли, поняв его, предприниматели увеличат свою инвестиционную и деловую активность, начнут без устали создавать рабочие места и модернизировать экономику, как требуют премьер с президентом.
Позиции сторон теперь ясны. Все зависит от решения арбитражного суда, который последнее время стал ведущим институтом в проведении судебной реформы, объявленной президентом. И решать там, скорее всего, будут исходя из экономических и правовых реалий, а не исходя из раскладов межкланового противостояния. И каким образом следствие «по делу Сторчака» собирается «не замечать» статью 90 УПК РФ, если решение будет в пользу «Содэксима», пока непонятно. Не создав за три года следствия солидной доказательной базы, СКП пытается нащупать тропу в обход. Именно потому академический юрист Бастрыкин позволяет себе ляп о наличии в России двух «разных систем правосудия». Расшифруем пассаж: если система единая, то не признавать и не исполнять решения арбитражного суда, которое когда-нибудь состоится, нельзя. А если разные системы, то, наверное, все-таки можно.
Авторам этой юридической новации можно рекомендовать хорошую литературу - (Федеральный конституционный закон) ФКЗ № 1 от 31.12.1996. Он устанавливает единство судебной системы в Российской Федерации (ст. 3). В этой статье указано, что единство судебной системы РФ обеспечивается путем «признания обязательности исполнения на всей территории РФ судебных постановлений, вступивших в законную силу».
Судебная «двухсистемность» сродни двуличности. Пока в политически и экономически единой России не будет единой судебной системы, будут появляться на свет дела, подобные «делу Сторчака».